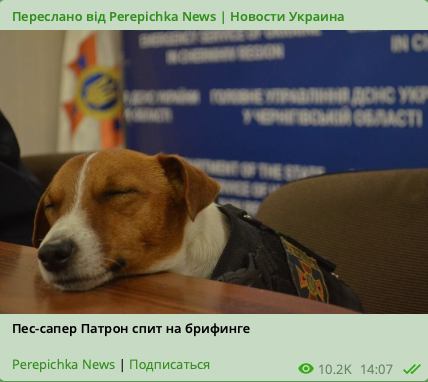Джерело:
https://www.facebook.com/evgeny.sosnovsky/posts/pfbid0yDcc2DYEq4bZq4hPopdQFpMTXdRPeVyCMuE2auH16ECq1KZ47rjextyKHoq3hTZglTHE GUARDIAN: ТАНЕЦЬ НА КІСТКАХ
Слідом за The Times and The Sunday Times інше відоме британське видання The Guardian присвятило свій матеріал "відкриттю" відбудованого маріупольского драмтеатру. Як вже стало відомо, у грудні "відновлений" театр так і не побачить своїх глядачів і вистави в ньому почнуть грати не раніше весни 2026 року. Щось там вже пішло не так. Але ця стаття під назвою «Танець на кістках» все ж заслуговує на увагу, тим більш, що в ній йдеться не тільки про театр, а і про проблеми маріупольців - і тих, які виїхали на неокуповану територію, і тих, хто залишився у місті. Хто розуміється англійською, може прочитати статтю в оригіналі за посиланням у коментарях. А для кого простіше українською - ось переклад:
«Маріупольський драматичний театр, зруйнований під час російського авіаудару в 2022 році, коли сотні цивільних осіб ховалися в його підвалі, знову відкриє свої двері. Російська окупаційна влада проголосила реконструкцію театру знаком відродження, тоді як колишні актори театру засудили його відкриття, назвавши «танцем на кістках».
Кремль зробив відновлення Маріуполя візитною карткою свого правління в окупованій Україні, але нагляд Москви супроводжується арештами або вигнанням критиків, а також конфіскацією майна, що позбавило тисячі українців квартир, якими вони законно володіли.
Маріупольський драматичний театр має відкритися до кінця місяця виставою «Червона квітка», російською казкою, після того, як за останні два роки його майже повністю відбудували. «Театр відроджується разом з Маріуполем. Російська та радянська класика повернулася на сцену», — йдеться в заяві театру про його плани на майбутнє.
Євген Сосновський, фотограф з Маріуполя, який багато співпрацював з театром, але після російського захоплення переїхав до Києва, сказав: «Я не можу підібрати іншого слова, крім як цинізм. На цьому місці має бути меморіал на згадку про мешканців Маріуполя, які загинули під час захоплення міста Росією, а не розважальний заклад».
Удар по театру залишається одним з найгучніших інцидентів російської війни в Україні, оскільки будівля стала мішенню, незважаючи на те, що на площі перед нею великими літерами було написано «ДІТИ». Підтверджено загибель щонайменше десятка людей, але реальна цифра, ймовірно, набагато вища.
Росія заперечила напад на театр і стверджує, що пошкодження були спричинені вибухом всередині будівлі, але кілька незалежних розслідувань вказують на те, що причиною були російські авіаційні бомби. Amnesty International дійшла висновку, що руйнування «ймовірно були спричинені російськими силами, які навмисно вцілили по українським цивільним особам», і заявила, що напад слід розслідувати як військовий злочин.
«Розваги, пісні та танці на кістках? Я маю відчуття, що душі людей, які там загинули, не дадуть їм добре виступати», — сказала Віра Лебединська, колишня акторка театру.
Зараз Лебединська разом із невеликою групою колишніх акторів Маріупольського театру мешкає в західноукраїнському місті Ужгород. Візитною карткою театру в екзилі стала вистава «Маріупольська драма», заснована на подіях лютого і березня в Маріупольському театрі, яка протягом останнього року гастролювала Європою.
«Спочатку було дуже важко грати в цій виставі, і я задавалася питанням, чому я повинна все це пам'ятати, але я продовжувала і зрозуміла, що моє завдання — розповісти світу про те, що сталося в театрі», — сказала Лебединська.
Однак багато інших акторів залишилися в Маріуполі і співпрацюють з новим театром. «Для них головне — грати на сцені, а все інше не має значення. Їхній принцип — «Ми поза політикою». Їм байдуже, де вони перебувають — в Росії чи в Україні», — сказав Сосновський.
Колишній директор театру залишився в Маріуполі, але його понизили в посаді — тепер він керує оркестром, а російська влада призначила новим керівником Ігоря Солоніна, колишнього заступника директора Донецького цирку.
В інтерв'ю російському журналісту на початку цього року Солонін повторив твердження, що будівля була підірвана зсередини. «Це був внутрішній вибух. Це була бомба або вибуховий пристрій всередині будівлі, або, можливо, необережне поводження з боєприпасами», — сказав він. Кілька людей, які були в театрі під час вибуху, розповіли Guardian, що там не було ні солдатів, ні військової техніки.
Росія розпочала масштабну програму відновлення Маріуполя після того, як її вторгнення перетворило більшу частину міста на руїни. На початку цього місяця російський президент Володимир Путін підписав указ, який дозволяє чиновникам в окупованих районах України конфісковувати будинки, що залишилися порожніми після того, як їхні власники втекли або загинули під час російського вторгнення.
Згідно з документом, житло, яке вважається «безхазяйним», буде визнано власністю регіональних органів влади. Компенсація можлива тільки для тих, хто отримає російське громадянство. За даними з відкритих джерел, наданих російською владою Маріуполя, зараз понад 12 000 квартир вважаються безхазяйними.
The Guardian поспілкувався з кількома колишніми мешканцями Маріуполя, які заявили, що їхня власність була конфіскована або має бути конфіскована. Один з них, Володимир, сказав, що він був власником квартири в будинку, який був зруйнований під час бойових дій і згодом відновлений російською владою.
«На дверях входу вони розмістили оголошення, що чекають на власників квартир, які повинні терміново підтвердити своє право власності, інакше їхні квартири будуть «націоналізовані», – сказав він. Єдиний спосіб підтвердити своє право власності – це поїхати до Маріуполя і прийняти російське громадянство.
Сосновський сказав, що знайшов свою маріупольську квартиру в списку «безхазяйних» і змирився з тим, що втратить свою власність. «Я знаю, що ніколи не повернуся до Маріуполя. За мого життя навряд чи він повернеться до України», – сказав він. «Моїй дружині і мені вже за 60, тому це малоймовірно. Ми намагаємося почати нове життя з нуля в Києві. Але від держави немає абсолютно ніякої допомоги чи підтримки», – додав він.
Одна жінка з Маріуполя, яка попросила не називати її імені, розповіла, що їй вдалося купити «квартиру своєї мрії» – скромну квартиру в радянському житловому будинку в Маріуполі – і вона планувала почати її ремонт за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році.
Не тільки ті, хто покинув Маріуполь і переїхав на підконтрольну Україні територію, борються за свої права власності. На початку цього місяця жінка, яка представилася як Анна Гузевська, мешканка Маріуполя з трьома дітьми, записала відеозвернення до Путіна, в якому розповіла, що її будинок був зруйнований. Хоча це мало б дати їй право на нову квартиру, їй запропонували лише грошову компенсацію, якої було недостатньо для придбання нової квартири.
«Як я маю пояснити своїм дітям, що в новому житловому будинку більше немає нашої квартири, де вони жили з народження», – запитала вона Путіна.
Актриса Лебединська сказала, що її квартира в Маріуполі залишилася відносно неушкодженою, лише кілька вікон було розбито. У 2022 році вона дізналася, що туди заселилися інші люди, і з того часу не намагалася з ними зв’язатися. «Мені не цікаво, хто там живе. Навіть якби була теоретична можливість, я б не хотіла її продавати. Я закрила цю сторінку в своєму житті, я збудувала стіну. Це місце для мене мертве. Нехай насолоджуються своїм «російським світом», – сказала вона»
Дякую Pjotr Sauer і всім, хто працював над цим матеріалом за чергове нагадування про Маріуполь. Але було б добре, якби про це місто і його мешканців згадували б не тільки у зв'язку з бомбардуванням і "відновленням" будівлі драмтеатру.
#Маріуполь #Mariupol #TheGuardian #МаріупольськийЩоденник